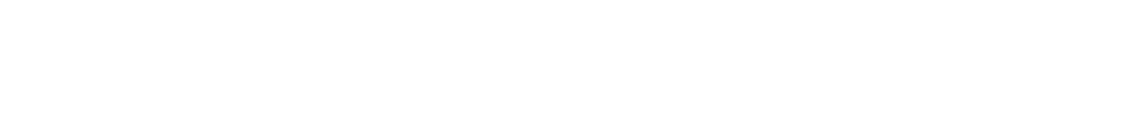Ученица 8 класса клинской гимназии №2 Юля Полякова стала победительницей конкурса «Диалог эпох», который проводился филологическим факультета МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с Обществом русской словестности и был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В конкурсе участвовали ученики 6–11 классов, а также бакалавры и магистры филологических наук. Конкурс проводился в четырёх номинациях: поэзия, художественная проза, эссе, литературоведческое исследование.
Победителем конкурса стала ученица клинской гимназии №2, восьмиклассница Юля Полякова. Предлагаем вниманию наших читателей её работу.
По кому деревья на ветру качаются
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же…
(Александр Твардовский)
Звать меня Пётр Семёнович Сотников, родился я в селе П***., Курского уезда. Отец мой, Семён Петрович Сотников, был староста наш, человек большой души. Матушка моя, Мавра Гавриловна по отцу Королёва, красавица, с косой крепкой, работящая была, строгая. Сестер у меня было две, Анна с Ольгой, да братьев трое, Иван, Владимир и Алексей. Лето сорок первого года разлучило нас и поставило братский крест на семье моей. Многое у меня война отняла…
***
В сорок первом мне 16 лет исполнилось, забирали нас с братьями из села рано утром, день этот хорошо мне запомнился. Конец августа это был, воздух уже по-осеннему затхлый, вечером дождь прошёл, дороги размыло. Братья мои день этот ждали, страшные письма приходили нашим товарищам с фронта, и с момента объявления войны они грезили о мести фашистам.
В то утро мы с Лешей раньше всех проснулись, нам на войну идти было страшно. Лежали мы с ним на старой тахте, думали: вместе воевать будем, или разлучат нас? Лешка, хоть и старше меня, но у нас в семье самый нежный был. Боялся он страшно за нас, за мать с отцом и за сестёр наших, кулаки его сжались, слеза скатилась со щеки, когда сказал он, что если случится что с нами, мстить будет до последнего. Это был не тот брат, которого я знал. Наш Лешка букеты из полевых цветов домой приносил, любил гулять подолгу на закате, стихи, бывало, писал. Но в то утро от его нежности не осталось и следа. Это был солдат, готовый мстить за свою Родину и семью, за каждый кусок земли, по которой ступали фашисты. Лешка попросил меня никому из домашних не говорить о разговоре том, чтоб не сглазить. Не сказал я никому, да разве помогло это сестрам нашим, убитым во время бомбежки? Отцу с матерью, голодом изморенных? Да и самому Лешке это не помогло, когда немецкий снайпер подстрелил его под Москвой? Когда лежал он на промерзлой сырой земле и смотрел в небо серое, в вышине которого вороны вились? Брат мой родной, все бы я отдал, чтоб еще раз свидеться с тобой, но теперь уж недолго мне осталось, авось не далеко до встречи нашей…
После нас проснулась Анечка, пошла за водой свежей. Когда уже весь дом проснулся, вбежала она в избу, ведра опрокинула и сказала: «Пришли». Зашли в избу двое крепких солдат, мать вскочила, заскулила страшно, бросилась к нам на шею, Оля с Анечкой с нею, и давай целовать и шептать: «Куда ж вас, родненькие, куда ж, родимые вы наши». Отец хмур был, обнял по-отцовски и отпустил с Богом.
Вышли мы из избёнки нашей, нас там ждал воронок военный, а в нём все наши сельские сидели уже. Сёмка песню завёл, как сейчас помню слова её, по радио её еще тогда играли, да и сами вы её слышали: «До свиданья, города и хаты». Сёмка тот, главный балагур был у нас на селе, глаза были у него необыкновенно большие и по-детски наивные. Пастухом он у нас заделался, на балалайке душевно так играл. Хороший он парень был. Поднял тогда песней той Сёмка дух наш, щёлкнуло что-то внутри. Выезжали уж когда, не удержался Сёмка, выпрыгнул из кузова, бросился еще раз мамку с сёстрами поцеловать, в глаза родные заглянуть. Поймали его, увели с собой люди какие-то. Узнал я потом, что в штрафбат попал он, да оттуда уж, как известно, не возвращаются.
***
Помотала меня война по стране нашей огромной. Многое в то время мне пришлось перенести. Я чист перед своей Родиной, но кое-что до сих пор возвращается ко мне, когда по одиноким вечерам я сижу у окна.
С братьями нас разделили, и я поначалу нелюдим был, потому что ровесников моих в первые месяцы войны не так много было, а старшие ребята со мной не водились. Неделю к нам свозили таких же новобранцев, как и я, и казалось мне, что так и провоюю один, но в один из дней приехали ребята из украинской деревни. Когда выгружались они, я не смог не заметить огромного парня: был он просто исполинских размеров. Ростом он вышел, что надо, волосы, как солома жёсткие, улыбка добрая. Звали его Чубенко Степан, «человечище», как прозвали его мы. Там, на фронте, Стёпка стал мне братом, и, если б не он, может, и не осталось бы меня на белом свете.
Наш батальон был уже сформирован, но во время бомбёжки один из наших, Лёнька Самойленко, был контужен, потому к нам и перевели Стёпку. Познакомились мы просто, во время фронтового обеда он решил подсесть ко мне. Так и мучает меня вопрос, почему тогда из всех солдат он выбрал меня, самого маленького в полку. Стёпка сразу стал рассказывать о себе. Как его зовут, из какой деревни он приехал, и как хорошо ему там жилось. Вырос он с мамкой и с дедом своим, отца не видел ни разу. С детства «татко», как он говорил, учил его рыбной ловле, охоте. К животным относился с невероятным трепетом, так уж его «татко» воспитал. Говорил Стёпка с сильным украинским акцентом, голос у него был низкий, и, когда нужно было запевать песню, всегда это делал он. Пел он необыкновенно, меня частенько пробирало до дрожи. Хороший он парень был, сердце у него в шёлк было завёрнуто, а война таких людей быстро забирала…
***
Воспоминания о первых днях на фронте никогда не исчезнут из головы моей. Холод, смерть, страх, и ни шагу назад. Лучами света были те добрые люди, которых встретил я в то время. Офицер наш, уроженец Брянска, Александр Юрьевич Титов, хоть и суровый был, солдат своих любил, и для любого из нас готов был рубашку последнюю отдать. Плотников Артемий Филиппович, врач наш был, старичок, но с совершенно молодым сердцем. Глаша Агапова, корреспондентка военная, одна из самых храбрых людей, которых я знал. И Стёпка Чубенко, человек железного характера, со стальной выдержкой и чистейшей душой.
Мы со Стёпкой через многое прошли, всегда старались держаться друг за друга. В батальоне, как только нас видели, кричали: «О, гляньте, идут! Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой, да?». Мы с ним не обижались, смеялись. Спустя всего месяц совместной службы я сильно к нему привязался.
Наш батальон продвигался на северо-запад, и ряды наши редели. Мы решили сделать привал у местечка Карачиж, деревушка с небольшим поселением, затерянная в лесу. Разбили лагерь, остались на ночёвку. Мы со Стёпкой легли спать рядом с полем, под раскидистым голым клёном. Тогда уже ночи становились длинней, и холодней, и единственное, чем мы согревались, были солдатская шинель, крутой кипяток, с размоченной в нём травой, а если повезёт, с ягодами, и доброе слово товарища. После вечернего костра, мы со Стёпкой пошли к нашему месту. Каждый укутался в шинель, я под голову подложил солдатскую сумку, Стёпка опёрся на ствол клёна.
Это была первая светлая ноябрьская ночь, и нам открылся вид на чистое ночное звёздное небо. Ветер был порывистый и холодный, такой, что, казалось, мог унесть с собой меня, и мою сумку в придачу. Угрюмые стволы лохматых елей и тоненьких осин качались на ветру, убаюкиваемые затяжной песней ветра, и я вместе с ними потихоньку засыпал…
— Петь, а как, по-твоему, отчего деревья качаются?
-А?
Я поднял на него взгляд. Стёпка спать не собирался. Он сидел у ствола клёна, руки его лежали на согнутых коленях, головой он опирался на ствол и смотрел он в небо с тоской в глазах.
-Я говорю, ты, как думаешь, деревья, отчего качаются?
-От ветра небось.
-А, не, Петя, не оттого они качаются, совсем не оттого.
-А почему тогда ж?
Он взглянул на меня, грустно улыбнулся, а затем вновь устремил взгляд к звёздам.
-Деревья ведь – наши главные заступники, плакальщики наши. Татко рассказывал мне в детстве, что они оттого и качаются – тоску по кому-то справляют. Вот и сейчас мне кажется, что они будто по мне плачут.
Я замялся, не зная, что сказать, а потом с улыбкой ответил:
-Ну, ты, Стёпка, сказанёшь, ну выдумаешь. Ты же тут, живёхонький сидишь.
Тут я встретился с взглядом Стёпки, и увидел в них страшное беспокойство. Тогда я стушевался и сказал уже совершенно серьёзно:
-Разве так мы должны сейчас думать? Нам верить в победу надо, а не соснам с берёзами.
Он снова посмотрел на меня, теперь только по-другому, немного веселее. Успокоил, теперь, думаю, можно и спать ложиться, но Стёпка сказал:
-Ты прав, Петя, чертовски прав. Ну её, тоску эту! Но есть у меня к тебе просьба. Ты только выполни её хорошенько, ладно?
Он начал рыться в карманах формы и вытащил бумажный треугольник-письмо и протянул его мне.
-Я тут написал его мамке, а отправить никак нельзя, и не знаю я, свидимся ли мы с ней вновь, а вот ты.…Сколько ни наблюдаю я за тобой, мне всё кажется, что ты в рубашке родился. Будто за тобой кто-то присматривает. А за мной присматривать некому…
Как страшно я разозлился, услышав эти слова. Ведь он, Стёпка, был, в отличие от меня, сильный, огромный, будто из книжки. А я, метр с кепкой, да тоненькими руками и ногами ему даже в подмётки не годился.
-Стёп, ты подумай, что говоришь, ты же больше меня, выше меня, сильнее меня, тебе никто не нужен. Так что не выдумывай и оставляй письмо у себя, когда домой возвращаться будем, сам его матери отдашь.
Тогда Стёпка улыбнулся мне и сказал:
-Хорошо, тогда будет мне это серьёзным напоминанием, для чего и за кого я воюю.
И в тот вечер он заснул, мечтая о том, как вернётся к матери, обнимет её, подойдет к татко, встанет перед ним на колени, тот его прижмёт к себе, поцелует в щеки, грязные от копоти и дорожной пыли, и потом пойдёт гулять босиком по полю и уснёт в стогу тёплого сена.
***
С того дня прошло около месяца. От нашего батальона оставалось меньше половины первоначального состава. Мы подходили к Москве. Нас со Стёпой и ещё тремя ребятами, Яриком Плотовым, Гришей Кузьминым и Мишей Давыдовым, отправили на опережение основного состава. У каждого из нас была ракетница, которую мы должны были использовать только в крайнем случае, потому что по её сигналу от батальона отделялась группа, которая шла к нам на подмогу, пока остальные отступали. Поэтому нас и отправили, чтобы сберечь, как можно больше солдат, хотя в то время мы все были попросту «пушечным мясом». Прямиком за нашим батальоном шло подкрепление, численностью четыреста тысяч человек. Медлить было нельзя. Четыре дня мы шли впятером. На пятый нас осталось двое.
Это произошло очень скомканно. На пятый день мы передвигались с самого утра, только изредка останавливаясь из-за Гриши Кузьмина, на второй день он угодил в неубранный волчий капкан, и мы останавливались, чтобы дать ему время на передышку и перебинтовку. В последний раз, это было поздним вечером, Гришка зарыдал от боли, еле сдерживая крики в груди. Тогда Миша предложил отправить его назад вместе со мной, потому что из всех них я был самый маленький и, по его мнению, для успеха операции можно было «пожертвовать» мной. Но я идти отказался, понимая, что не смогу дотащить Гришку, парня, в два раза больше меня. Тогда решили отправлять Ярика, он был самым маленьким из оставшихся трёх ребят. Сейчас я понимаю, что должен был идти я. Да, через пот, кровь и слёзы, но это должен был быть я, ведь всё могло закончиться иначе, и по ночам я спал бы спокойно, и не снился бы мне тот лес, и я, тащащий на спине Гришку. В таких снах я никогда не могу выйти из леса и просыпаюсь весь в слезах и поту, оставшуюся часть ночи я не сплю.
Отправив ребят назад, мы продолжили путь. Передвигаться в потёмках сложнее всего, но мы не могли терять время. Ночью каждый шорох, каждый звук отдаётся эхом по лесу, мы шли крадучись, чтобы избежать возможности рассекречивания. Грозные октябрьские тучи висели над нами, точно вымоченное тряпьё. Вот-вот должен был пойти дождь. Решили: «Только начнёт крапать, можно будет перейти на бег». Тогда мы и допустили ошибку. Передвигаясь не спеша, мы видели заминированную территорию, проволоки, и после случая с Гришкой мы стали уделять этому особенное внимание. Но сейчас, когда до конца осталось так мало, мы совершенно забыли об этом и, когда закапал дождь, побежали вперёд, не смотря под ноги. Дождь с каждой минутой усиливался, постепенно превращая землю в кашу из грязи и листьев. Наши гимнастёрки промокли насквозь, как и сапоги, в которых было полно воды. И тут я зацепился ногой об натянутую проволоку и упал.
Дальше все происходило будто в тумане: вот Стёпка поднимает меня, кричит мне, что здесь немцы, я киваю, и вот мы уже разворачиваемся, чтобы начать бежать, как вдруг я слышу выстрел. Всё внутри меня перевернулось. Как бы я хотел, чтобы это в меня выстрелили. Но я обернулся на Стёпку и увидел, что у него из живота сочится кровь. Я тут же вытащил ракетницу, выстрелил в небо и побежал к нему. Красная полоска прочертила дугу на фоне чёрных туч. В это время Мишка отстреливался с бегущими в нашу сторону двумя фашистами. Времени у нас было мало. Я опустился на колени перед Степаном. Над нами прогремел гром. Стёпка затрясся, по его большому тёмному лицу скатывались капли дождя.
-Говорил я тебе, – он начал кашлять кровью, – недолго мне осталось.
Мишка кричал мне, что нужно уходить. Из моих глаз текли слёзы. Я уже поднялся на ноги. Он ухватил меня за штанину.
-Письмо…. Письмо возьми…
Он протянул письмо, бережно свёрнутое в новую портянку. Я успел только кивнуть ему и побежал к Мише. Мы отстреливались, убегая от того места, где остался лежать Стёпка, с вздёрнутой вверх головой и стеклянными глазами. Его ноги были скрючены, руки лежали на земле. Он остался там, в лесу, омываемый дождевой водой. Я бежал сквозь ряды деревьев, понимая, что мой товарищ остался там навсегда… Теперь под моим сердцем теплилось письмо, единственное, что было от Стёпки.
***
Всю войну я терзал себя. В то время единственное, о чём я думал, было письмо, которое я должен был доставить. Матери и деду Степана я попросил не сообщать: когда кто-то из наших сослуживцев покидал нас, он всё приговаривал, что не представляет, как эту новость примут родители. Я решил, что сообщу сам.
Долго шёл я к тому дню. Думал, как мне встать перед его матерью, что сказать ей, ждущей сына четвёртый год. Как посмотреть ей в глаза.
К ним я приехал в начале июля, сразу после того, как схоронил отца с матерью, сестёр, получил письмо о том, что Алексей погиб в героическом сражении под Москвой. Мы с братьями, Володей и Ваней, решили уехать в Севастополь, к братьям матери, и я не знал, появится ли у меня возможность передать письмо после переезда.
До их деревни я добирался два дня, сначала на поезде доехал до Харькова, оттуда уже попутчиком на машинах. Я вышел на обочине дороги и пошёл пешком. Это был жаркий июньский день, чистое голубое небо, духота. Вокруг украинская степь. Пахло зеленью и полевыми цветами. Приятно жужжали пчёлы и шмели. Дул лёгкий ветерок. К их деревне вела жёлтая тропинка. По ней я и пошёл.
Его дом я узнал не сразу. Стёпка говорил, что их дом находится прямо на входе в село, забор у них плетеный, рядом огород, крыша в красный цвет выкрашена. Только по ней я понял, что домишко, с дырой в стене и выжженным палисадником, и есть дом Стёпки. Перед окнами стояла лавка, на которой сидела босая девочка в серой льняной рубашке. На вид ей было около трёх лет, светлые пушистые волосы торчали в разные стороны. Она играла с деревянными болванчиками, завёрнутыми в цветное тряпьё, и тихонько приговаривала себе что-то под нос:
-Женечка, – из дома раздался певучий женский голос, – Иди в дом, а то головку напечёт.
Девочка подняла свои большие карие глаза и увидела меня. Я присел на корточки и подозвал её к себе. Она уронила болванчиков в траву и подошла ко мне.
-Женя, я тебе колечек напекла, беги кушать!
Я взял её к себе на руки, встал. Девочка улыбнулась мне и хлопнула в ладоши.
-Откуда же ты такая взялась? – я погладил её по голове, большим пальцем провёл по нежной детской щеке, – И чья ты будешь?
-Бабушкина я.
-Бабушкина? Вот как бабушке повезло.
Из дома вышла высокая женщина с тугой длинной косой. Это точно была мать Стёпки. Глаза точь-в-точь как у него. Увидев меня с Женей на руках, она удивилась. Я опустил девочку на землю. Она подбежала к бабушке и спряталась за ней. Тогда я подумал: «Чья же она дочь? Неужели у Степана братья с сёстрами были?»
-Здравствуйте!
-Здравствуй, милый, здравствуй! – она улыбнулась мне по-доброму – Ты как попал к нам?
-Из Курска я к вам приехал. Вас ведь Клавдия Семёновна Чубенко зовут?
-Зовут, милый, зовут. Ты давай-ка в дом заходи, в ногах, ведь, правды нет.
-Вы уж не обижайтесь, времени мало у меня, мне сегодня уехать уж нужно, а я вам передать кое-что должен.
Я достал из моей сумки кровавую портянку и протянул ей. Глаза у неё потухли, рот она прикрыла рукой, из глаз покатилась первая слеза.
-Ай-ай-ай.… Ой, горе мне, ой, горе…
Мать Стёпки упала на лавку, я подсел к ней, положил руку на плечи. Женечка подбежала к нам, посмотрела на меня и будто всё поняла.
-Дядечка, а папа не придёт? Вы без него пришли?
Я грустно покачал головой. В меня её слова попали как пуля. Ветер пробежал по верхам деревьев. Правду Стёпка говорил, это по нему деревья качаются…
Юлия Полякова, гимназия №2, 8 «Б» класс